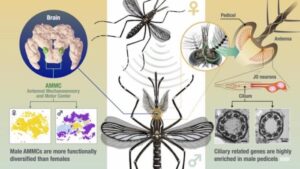Мировая энергетика переживает фундаментальный сдвиг: ископаемое топливо уступает место возобновляемым источникам. Солнечные панели, ветряные турбины, водородные элементы и литий-ионные батареи приходят на смену нефтяным вышкам и угольным шахтам. Однако за этой «зеленой» революцией скрывается не только борьба за чистую энергию, но и за стратегический контроль над новой энергетической экономикой, где главными соперниками становятся Китай и страны Запада, прежде всего Соединенные Штаты.
Это столкновение обусловлено не идеологическими разногласиями, а стремлением к контролю над ресурсами, технологическим превосходством и глобальным влиянием. С одной стороны, Китай доминирует в поставках сырья и на начальных этапах производства компонентов для возобновляемой энергетики. С другой – Запад, возглавляемый США и европейскими союзниками, удерживает преимущество в области высоких технологий, интеллектуальной собственности и глобальных финансовых рычагов. Таким образом, переход к возобновляемым источникам энергии становится не просто климатической необходимостью, а новой «холодной войной» экономических и технологических масштабов.
Для достижения целей по нулевым выбросам к 2050 году, по прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, 90% мирового электричества должно производиться из возобновляемых источников. Исторически энергетические переходы всегда перекраивали структуру экономик и геополитики. Следовательно, тот, кто возглавит «зеленую» революцию, сможет определять правила нового мирового порядка.
Китай утвердился в роли мировой сверхдержавы по производству «зеленых» технологий. По данным Международного энергетического агентства IEA, Пекин контролирует 60% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов, 77% производства поликремния, критически важного для солнечных панелей, 70% мировых мощностей по производству аккумуляторных ячеек и более 80% мирового аффинажа лития. Эти впечатляющие цифры – результат целенаправленной промышленной политики последних двух десятилетий, включая стратегию «Сделано в Китае 2025», нацеленной на доминирование в цепочке создания стоимости чистой энергии. Китай не только обеспечил доступ к собственным критически важным минералам, таким как редкоземельные металлы во Внутренней Монголии и литий в Цинхае, но и стал главным переработчиком ресурсов, добываемых в других странах, инвестируя в литиевые рудники в Африке и заключая контракты на поставку кобальта из Демократической Республики Конго. Это дает Пекину огромные рычаги влияния, что уже демонстрировалось, например, во время эмбарго на поставки редкоземельных металлов в Японию в 2010 году.
В то время как Китай доминирует в сырьевом секторе и базовом производстве, Запад, и особенно США, сохраняет превосходство в области интеллектуальной собственности, передовых технологий и глобальных финансовых сетей. Американские инновации играют ключевую роль в разработке солнечных технологий следующего поколения, таких как перовскитные элементы, солнечно-тепловые накопители и плавучие солнечные фермы. Европа лидирует в технологиях морской ветроэнергетики, где ведущие позиции занимают датская Ørsted и немецкая Siemens Gamesa. Запад также имеет преимущество в технологиях электролиза для «зеленого» водорода и в программных системах оптимизации возобновляемых энергосетей. Американские компании, такие как Tesla, NextEra Energy и First Solar, задают стандарты эффективности, интеграции и хранения энергии в аккумуляторах, опираясь на развитые экосистемы венчурного капитала и надежную защиту интеллектуальной собственности, что обеспечивает им иной тип доминирования, основанный на создании добавленной стоимости, а не на объеме производства.
В ответ на вызовы, американский Закон о снижении инфляции IRA направил 369 миллиардов долларов на «зеленые» субсидии, стимулируя внутреннее производство и привлекая союзников. Европейский Союз, в свою очередь, представил Промышленный план «Зеленого курса», предлагающий налоговые льготы и субсидии, чтобы противостоять китайскому доминированию и защитить свои компании от недобросовестной конкуренции.
Это соперничество представляет собой нечто большее, чем просто технологическую гонку – это конкуренция двух моделей управления. Китай полагается на централизованную промышленную политику, государственные субсидии и контроль над ресурсами. Запад, особенно США, отдает предпочтение рыночным инновациям, частному предпринимательству и международным альянсам. Возобновляемые источники энергии способствуют децентрализации производства энергии, но могут создавать централизованные узкие места в цепочках поставок. Тот, кто контролирует эти узкие места – будь то на начальном этапе добычи и переработки или на конечном этапе хранения энергии и оптимизации сетей с помощью искусственного интеллекта – получает стратегическое преимущество.
Соперничество ярко проявляется в конкретных отраслях. В производстве солнечных фотоэлектрических панелей Китай производит более 80% мирового объема. США и ЕС пытаются вернуть часть производства на свою территорию, но с трудом конкурируют по затратам, однако технологии следующего поколения, такие как тандемные ячейки и печатные солнечные панели, разрабатываются на Западе. В ветроэнергетике Европа лидирует в морском сегменте, но Китай быстро догоняет и уже эксплуатирует больше морских ветропарков, чем Великобритания, тогда как США отстают, отчасти из-за регуляторных барьеров и ограничений энергосетей. В секторе аккумуляторов и электромобилей китайская CATL является крупнейшим производителем аккумуляторов в мире, а BYD стала одним из ведущих мировых производителей электромобилей, хотя американские компании, такие как Tesla, лидируют в интеграции, запасе хода и брендинге.
Страны Африки, Южной Азии и Латинской Америки не являются пассивными наблюдателями в этой борьбе. Они богаты ресурсами, но испытывают дефицит энергии, и их роль в глобальной декарбонизации ключевая. И Китай, и Запад стремятся заручиться их поддержкой и влиянием. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» BRI включает сотни проектов в области возобновляемой энергетики по всему Глобальному Югу. США и ЕС запустили контринициативы, такие как Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций PGII, нацеленные на продвижение прозрачной, высокостандартной «зеленой» инфраструктуры. Эта борьба напоминает геополитику нефти XX века, но на этот раз конкуренция идет за распространение технологий, финансовые нормы и «зеленые» стандарты, а не только за добычу ресурсов.
Одним из следствий этой конкуренции становится «зеленый протекционизм». США и ЕС вводят требования к местному содержанию, углеродные пошлины и стратегии «френдшоринга» для снижения зависимости от китайских компонентов. Механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС CBAM облагает пошлинами импорт с высоким уровнем выбросов. Американский IRA предоставляет налоговые льготы на электромобили только для автомобилей, использующих компоненты американского производства или произведенные в странах-союзниках. Индия, Япония и Южная Корея также строят независимые цепочки поставок. Хотя такая политика способствует повышению национальной устойчивости, она рискует создать фрагментированные «зеленые» рынки, снизить эффективность и замедлить энергетический переход, поскольку превращение «зеленой» торговли в оружие может привести к росту издержек и глобальному недоверию.
Долгосрочное планирование Китая – через его пятилетние планы, координацию государственных предприятий и политику государственных банков – позволяет ему формировать целые отрасли, от добычи до производства и внедрения. Этот подход можно охарактеризовать как стремление к «всеобъемлющей национальной мощи». В отличие от этого, Запад часто полагается на разрозненные усилия частного сектора. Хотя это стимулирует инновации, оно может привести к нескоординированному масштабированию, если правительства не будут играть координирующую роль – тенденция, которая все чаще наблюдается в промышленной стратегии администрации Байдена и Водородной стратегии Европы.
Существует и идеологическое измерение. Технологический сектор Китая интегрирует инновации в возобновляемой энергетике с цифровым наблюдением, что вызывает опасения по поводу экспорта таких стандартов. Западные системы, напротив, строятся вокруг открытых данных, конфиденциальности и участия гражданского общества. По мере того как «умные» сети, оптимизированное с помощью ИИ потребление и торговля энергией на основе блокчейна становятся нормой, ценности, заложенные в эти системы, будут отражать их геополитическое происхождение.
Единого победителя в этой гонке пока нет. Каждый блок обладает асимметричными преимуществами: Китай доминирует в контроле над ресурсами (редкоземельные металлы, литий, кобальт) и производстве (солнечные панели, аккумуляторы, электромобили), в то время как Запад (США/ЕС) лидирует в передовых технологиях и интеллектуальной собственности (ИИ, программное обеспечение, водород), а также в финансовых и глобальных альянсах. Глобальные цепочки поставок все больше регионализируются, и эта балканизация, вероятно, ускорится в «зеленых» секторах: Китай будет доминировать в Азии и Африке, а Запад консолидируется вокруг Америки и Европы.
Битва за возобновляемые источники энергии – это нечто большее, чем просто энергетика. Речь идет о формировании архитектуры экономики завтрашнего дня, где энергия, данные и доверие сливаются воедино. Если ископаемое топливо было основой империй XX века, то литий, электроны и алгоритмы станут валютой XXI века. Демократизация энергетики могла бы снизить геополитическую нестабильность, но это предполагает симметричный доступ. Если цепочки поставок и стандарты останутся разделенными, сформируются новые зависимости, возможно, даже более прочные, чем нефтяные.
Скоординированный глобальный энергетический переход требует доверия и сотрудничества. Однако текущая траектория отражает стратегическое недоверие и соображения национальной безопасности. Смогут ли США и Китай сотрудничать в вопросах климата, одновременно конкурируя за власть? Или геополитика сорвет процесс декарбонизации? Пока что битва продолжается – за литий в Чили, патенты на аккумуляторы в Мичигане, ветряные электростанции у побережья Хайнаня и заводы по производству «зеленого» водорода в Германии. Переход на возобновляемые источники энергии – это общая необходимость, но тот, кто осуществит его быстрее, умнее и сильнее, определит облик следующего столетия.