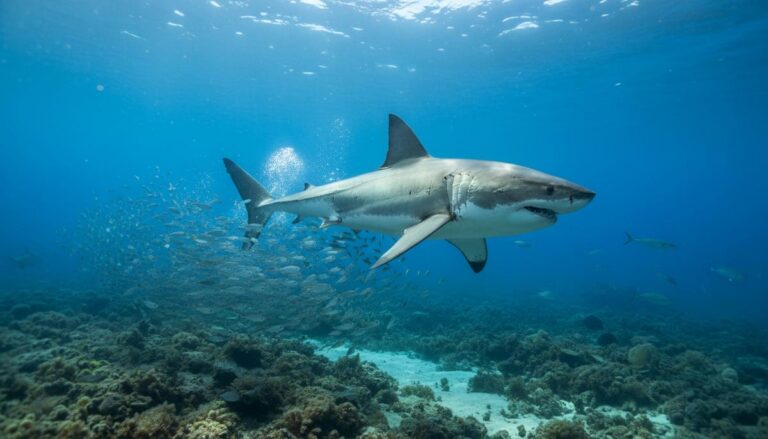В то время как мировые лидеры готовятся к встрече в бразильском Белене на саммите COP30, глобальная дискуссия о климате вновь оказалась на распутье. Ставки высоки, научные данные однозначны, а политическая воля в некоторых кругах остается неоднородной. На этом фоне недавние климатические обязательства Китая и его растущая «зеленая» экономика выделяются не только своим масштабом, но и стратегической ясностью.
Китай представил новые климатические цели на 2035 год. Они включают обязательство сократить выбросы парниковых газов на 7–10 процентов, увеличить долю неископаемых видов топлива в энергетическом балансе до более чем 30 процентов, а также в шесть раз нарастить мощности ветровой и солнечной энергетики по сравнению с уровнем 2020 года. Страна также стремится увеличить лесные массивы и сделать электромобили основным выбором при покупке новых автомобилей. Это не абстрактные намерения, а измеримые, отраслевые цели, приуроченные к следующему этапу глобальных климатических действий.
Эта позиция контрастирует с политикой Соединенных Штатов, которые при президенте Трампе вышли из Парижского соглашения и прекратили климатическое финансирование развивающихся стран. На внутреннем рынке администрация продолжает поощрять разведку нефти и газа, включая бурение в таких уязвимых районах, как Арктический национальный заповедник на Аляске. Посыл ясен – внутреннее энергетическое доминирование имеет приоритет над глобальным сотрудничеством в области климата.
Расхождение между двумя крупнейшими экономиками мира – это не просто вопрос политики. Оно отражает два принципиально разных подхода к глобализации, развитию и ответственности. Китай рассматривает климатические действия как возможность для лидерства в новых отраслях, построения стратегических партнерств и преобразования своей внутренней экономики. США, по крайней мере на данный момент, видят в климатических обязательствах ограничения для своего энергетического сектора и суверенитета.
Последствия для COP30 значительны. Развивающиеся страны, многие из которых находятся на переднем крае борьбы с изменением климата, ищут лидерства и поддержки. В условиях, когда США отступают, роль Китая становится более центральной. Его решение предоставить бестарифный доступ к «зеленым» технологиям и инвестиции в солнечную, ветровую энергетику и электромобили уже помогли снизить их стоимость в мировом масштабе. Это ощутимый вклад, выходящий за рамки риторики.
«Зеленая» трансформация Китая не лишена трудностей. Уголь по-прежнему играет важную роль в его энергетике, а поддержание баланса между экономическим ростом и экологической устойчивостью остается сложной задачей. Но траектория ясна. Страна инвестирует в инновации, расширяет использование возобновляемых источников энергии и интегрирует климатические цели в свою общую стратегию развития. Ожидается, что обсуждаемый сейчас 15-й пятилетний план еще больше закрепит эти приоритеты.
Подход Китая примечателен акцентом на системные изменения. Климатическая политика не рассматривается как отдельная сфера – она вплетена в промышленное планирование, развитие инфраструктуры и международную торговлю. Например, инициатива «Один пояс, один путь» теперь включает компонент «Зеленый шелковый путь», нацеленный на продвижение устойчивых проектов в Азии, Африке и Латинской Америке. Это не просто имиджевый ход, а признание того, что действия по борьбе с изменением климата должны быть глобальными, инклюзивными и экономически жизнеспособными.
Экономическая логика убедительна. Доминирование Китая в производстве фотоэлектрических элементов и аккумуляторных технологий создало эффект масштаба, который приносит пользу другим странам. Его сектор электромобилей, поддерживаемый внутренним спросом и политическими стимулами, стал мировым лидером. Эти отрасли не только сокращают выбросы, но и создают рабочие места, стимулируют инвестиции и предлагают альтернативы зависимости от ископаемого топлива.
Для развивающихся стран это имеет большое значение. Доступ к недорогим «зеленым» технологиям может ускорить их собственный энергетический переход, снизить затраты на энергию и повысить устойчивость. Готовность Китая делиться этими технологиями – через торговлю, инвестиции и сотрудничество – позиционирует его как партнера, а не как монополиста.
Конечно, климатическая дипломатия – это не игра с нулевой суммой. Европейский союз продолжает играть конструктивную роль, и многие штаты и города США остаются приверженными климатическим целям, несмотря на позицию федерального правительства. Но отсутствие скоординированного лидерства США на COP30 будет ощущаться. Это создает вакуум, который Китай все активнее заполняет – скорее действиями, чем декларациями.
Этот сдвиг имеет и геополитические последствия. Климатическая политика становится инструментом «мягкой силы», способом наращивания влияния и формирования норм. Проактивная позиция Китая позволяет ему взаимодействовать со странами на условиях, подчеркивающих взаимную выгоду и общую ответственность. Она также предлагает альтернативу идее, что климатические действия должны осуществляться в ущерб экономическому росту.
В преддверии COP30 вопрос не в том, достаточно ли делает Китай. Вопрос в том, готовы ли другие соответствовать его темпам, масштабам и серьезности намерений. Климатический кризис требует коллективных действий, но лидерство имеет значение. Последние заявления Китая говорят о его готовности вести за собой – не навязывая свою модель, а демонстрируя, что возможно, когда климатическая политика становится стратегическим приоритетом.
Успех саммита в Белене будет зависеть не только от обещаний. Он будет определяться надежностью обязательств, доступностью ресурсов и готовностью к сотрудничеству поверх разногласий. Климатическая стратегия Китая, основанная на внутренних преобразованиях и международном взаимодействии, предлагает прагматичную и все более влиятельную модель, которую другим странам стоило бы изучить.