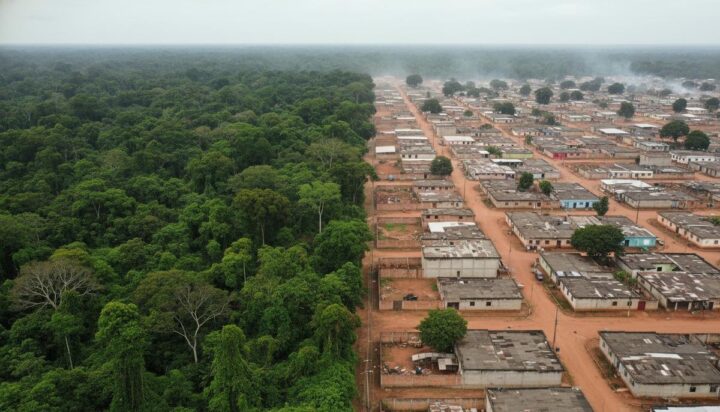Идея охладить Землю, распылив в атмосфере гигантское количество частиц для отражения солнечного света, перестала быть уделом фантастов и всерьез рассматривается научным сообществом. Эта технология – инъекция стратосферного аэрозоля (SAI) – моделировалась в сотнях исследований, и существует реальная вероятность, что государства или даже частные лица попытаются ее применить. Однако ученые из Колумбийского университета предупреждают: сторонники метода радикально недооценивают его сложность и потенциальные опасности.
«Даже самые сложные симуляции в климатических моделях по своей сути идеализированы. Исследователи моделируют идеальные частицы идеального размера и размещают их ровно там, где хотят», – объясняет В. Фэй Макнил, химик-атмосферник из Колумбийского университета. По ее словам, как только мы начинаем сравнивать эту идеальную картину с реальностью, выявляется огромная неопределенность прогнозов. «Диапазон возможных последствий намного шире, чем кто-либо предполагал до сих пор».
В своей работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, Макнил и ее коллеги проанализировали физические, геополитические и экономические ограничения SAI. Эффективность технологии зависит от множества факторов: высоты и долготы распыления, времени года и, конечно, количества частиц. Самой значимой переменной оказалась широта. Например, распыление аэрозолей в полярных регионах может нарушить тропические муссоны, а концентрация частиц над экватором способна повлиять на высотные струйные течения, изменяя перенос тепла к полюсам.
«Дело не только в том, чтобы доставить в атмосферу пять тераграммов серы. Важно, где и когда вы это делаете», – подчеркивает Макнил. Это означает, что для минимального риска проект должен быть централизованным и скоординированным. Однако, учитывая геополитические реалии, такой сценарий маловероятен. Большинство моделей до сих пор опирались на использование сульфатных аэрозолей, аналогичных тем, что образуются после извержений вулканов. Природным «доказательством» работоспособности метода часто называют извержение вулкана Пинатубо в 1991 году, после которого глобальная температура на несколько лет упала почти на градус.
Но у этого метода есть и обратная сторона. Извержение Пинатубо привело не только к похолоданию – оно нарушило индийскую муссонную систему, вызвав засуху в Южной Азии, а также привело к потеплению в стратосфере и истощению озонового слоя. Использование сульфатов в рамках геоинженерии чревато теми же рисками, а также дополнительными проблемами, включая кислотные дожди и загрязнение почвы. Эти опасения заставили ученых искать альтернативные вещества.
Среди предложенных минеральных альтернатив – карбонат кальция, оксид алюминия, диоксид титана, диоксид циркония и даже алмазная пыль. Однако при выборе этих веществ ученые в основном ориентировались на их оптические свойства, упуская из виду практические ограничения. «Многие из предложенных материалов не так уж и распространены в природе», – отмечает Миранда Хак, ведущий автор исследования. Алмазов просто не хватит для такой задачи. В то же время спрос на диоксид циркония и диоксид титана может превысить предложение, что приведет к резкому росту цен.
Запасов оксида алюминия и карбоната кальция достаточно, но с ними, как и с другими кандидатами, существует серьезная техническая проблема. В виде сверхмелких частиц, необходимых для распыления в стратосфере, все эти минералы склонны слипаться в более крупные агрегаты. Расчеты исследователей показывают, что такие скопления гораздо менее эффективно отражают солнечный свет, а их влияние на климат еще менее изучено. «Вместо идеальных оптических свойств вы получаете нечто гораздо худшее», – говорит Хак.
Учитывая все практические аспекты – от стратегии распыления и управления до доступности материалов и их физических свойств – неопределенность технологии SAI становится еще выше, заключают исследователи. «Когда речь заходит о солнечной геоинженерии, все сводится к компромиссу между рисками, – говорит климатический экономист Гернот Вагнер. – Учитывая всю сложность реального мира, все произойдет совсем не так, как это моделируется в 99 процентах научных работ».